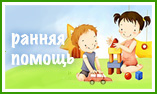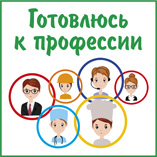— Как вы узнали, что ваш сын Сема будет особенным, «солнечным» ребенком? И какой была ваша первая встреча с ним?
– Во всем мире примерно из каждой тысячи детей рождается один ребенок с синдромом Дауна. И вот мы оказались в этом числе. Узнали мы об этом раньше, чем Сема родился, — уже точно не помню, когда, но практически сразу начали предлагать, скажем так, этот вопрос устранить. Все эти аккуратные намеки: «Ну вы же понимаете…» Тогда меня больше раздражал не сам факт предложения, а то, как это предлагается.
И я сказал: «Ну хватит, уже достали, будь что будет». Тогда появилась наша с Эвелиной любимая фраза, которую до сих пор часто проговариваю: будь там хоть дракон, он будет лучшим драконом на свете. Мы сказали это врачу, которая вела беременность, и добавили, что больше к этому вопросу не возвращаемся.
Я человек обыкновенный, с обычными страхами и мифами в голове. И, как и все, изначально ждал здорового ребенка, у меня были на этот счет свои амбиции, проекции. Наверное, каждый родитель, особенно в своем первом родительстве, думает, что у него будет идеальный ребенок, который переплюнет всех вокруг, будет самым лучшим. Ты начинаешь любить себя в нем. У меня не получилось стать адвокатом, а он станет. И так далее. Но в этих прекрасных компенсациях ты забываешь про главное: про факт рождения другого человека — отдельного, отличного от тебя. Который ничего никому не должен.
Когда Сема родился, все эти планы на идеального сына вмиг рухнули. Окруженные стереотипами, мы, конечно же, испытали шок, страх и отчаяние.
— Как вы справлялись с этим чувством?
— А Сема схитрил: он родился очень слабеньким, прямо совсем, и это поменяло наши задачи и приоритеты. Тут уже не до принятия синдрома Дауна — тут надо жизнью заниматься. И мы просто боролись за его жизнь. Было очень важно, чтобы Сема для укрепления иммунитета взял грудь. Нам сказали, что такие дети грудь не берут очень долго, если вообще берут, и у нас это вызвало прямо-таки протест: как это так? А наш — возьмет! У нас же самый лучший дракон в мире!
И мы, наивные, пошли в реанимационное отделение с ним разговаривать. Договаривались с медсестрой, тайно, иначе не проникнуть. Это, кстати, к вопросу об открытой реанимации. Он лежал там в трубках, но мы почему-то были уверены, что грудь он возьмет. Мы говорили что-то вроде: «Семочка, ну давай! Тебе сейчас очень важно это сделать». Когда ты вступаешь в такие отношения с ребенком, принятие, непринятие — все это вообще уходит.
И он взял грудь на второй день после наших с ним разговоров. Так что Эвелина с самого начала кормила его сама, когда мы проникали в отделение. Еще месяц пролежали на выхаживании — и вперед.
Помню, наутро после появления Семы я вышел из больницы на улицу, снег был другого цвета. Розового какого-то. Это я точно помню. Казалось, что жизнь изменилась необратимо. И я очень благодарен Ирине Меньшениной, которая сейчас возглавляет фонд «Синдром любви», которая тогда сразу сказала: главное — понимать, что не надо ничего менять. Если ты примешься сразу подстраивать под ребенка всю свою жизнь, тебе будет еще сложнее. Надо делать все то же самое, что и раньше. Сейчас я понимаю, что такой стресс было нужно испытать, чтобы теперь знать, как разговаривать с родителями особенных детей.
Оплакать идеальное дитя
— Вы беседуете с родителями, которые получили известие о том, что у них будет ребенок с синдромом Дауна. Как это происходит, на каком этапе? Только во время беременности?
— Иногда в роддоме, когда еще есть шансы, что младенца заберут домой. В кафе или гости приезжаю. Однажды специально прилетал в Верону к русской семье. По-разному бывает.
По поводу того, как говорить… Дело в том, что я не медик и не психолог. Но именно это помогает говорить с родителями от лица обыкновенного родителя, без каких-то специальных образований и терминов. Нет ничего хуже, чем слушать, как тебе врач на своем языке объясняет, что с тобой, а ты послушно киваешь, но вообще ничего не понимаешь. Объяснения должны быть простыми и человеческими.
И как папа я всегда говорю следующее: «Я не знаю, что будет с вашим ребенком в семь лет, потому что моему сыну шесть. Но обо всем, что с вами будет или может быть в течение первых шести лет, я вам расскажу».
Есть прекрасный пример, который часто привожу. Однажды на страничку Семы написала пара, совсем молодая — супругам по девятнадцать лет. Мама была уже на тридцать шестой неделе где-то. Они заранее знали, что у них ребеночек «солнечный». Было видно, как они держатся за мысль о том, что все будет хорошо. Но в глазах страх и непонимание. Сам факт того, что они ничего с этой беременностью не сделали, заставлял обязательно им помочь.

Что вообще происходит с родителями особого ребенка, когда он появляется на свет? В свое время мне попалось исследование шведского психолога, в котором говорится о том, что рождение особого ребенка ощущается как потеря, которую нельзя оплакивать. Книга так и называется «Запрещенное горе». Идеальный ребенок родителей умер, а проститься с ним нельзя, потому что ребенок жив. И эта невыплаканность – тяжелейшая травма.
Если при родах или раньше ребенок умирает по-настоящему, то эту смерть с точки зрения символического акта пережить проще, чем рождение ребенка-инвалида. Потому что мама не может оплакивать того, кто жив.
Хотя, повторюсь, с точки зрения психологии ее идеальный ребенок умер. И если дать возможность родителям проститься со своим идеальным ребенком, то становится легче. Поэтому в беседах я побуждаю родителей самим себе разрешить выплакаться, отгоревать потерю, а потом я им показываю Instagram Семы.
У меня была такая история с одним папой, который как-то нашел мой номер и позвонил. И вот мы с ним сидели в кафе и просто плакали. Долго и честно. А он такой весь накачанный, брутальный. Сильный мужик, в общем. Было видно, что он не может никому другому показать этих слез. А как только мы всё выплакали, я ему начал рассказывать про Сему. До сих пор слежу за его семьей и благодарю Бога, что это теперь такие счастливые родители. Так что терапия оплакивания очень важна.
До родителей я пытаюсь донести одну простую вещь: я так же, как и вы, не был готов к особенным родительским подвигам. Тем более, речь идет не о подвигах вовсе. Помню, на второй день после рождения Семы поехал в храм — в свой любимый, Благовещения на «Динамо», — и там в книжной лавке увидел книгу с заголовком: «Если в дом пришла беда. Как воспитывать детей с синдромом Дауна». Посмотрел на это и подумал: «Это почему беда-то? Не беда».
Нужно избегать всей этой риторики типа «это беда, теперь ты будешь нести свой крест, и это потому, что ты особенный, ты избранный». Никакой избранности, особенности тут нет. Больше того, в этом нет никакого креста. Это любовь без условий и нормальный, обыкновенный труд, который родитель совершает в воспитании ребенка. И в чем-то этот труд даже легче, чем у многих других.

Что такое «умственная отсталость»? По сути это наивность. А что такое наивность? Это «добро пожаловать в игру». И почему бы, скажем, вместо «Беды» не издать книгу «Как получать особенное удовольствие от общения с особенным ребенком»? Это же гораздо интереснее!
Быть счастливым, а не идеальным
— Конечно. Для мужчины продолжение рода в сыне, который считается как бы неполноценным, — это, конечно, большой удар. И чувство вины, которое на самом деле просто задетое эго. Мои первые мысли тогда: «Виноват я». «Вот за эти, эти и эти грехи со мной произошло такое». А если сын на тебя похож, то «точно, синдром — от меня». Но это, видимо, мои какие-то личные комплексы и чувство вины.
— Почему в Европе, в Соединенных Штатах нет такой острой проблемы уходящих мужчин, которые узнали про болезнь жены или болезнь ребенка?
— Потому что у них всегда были инвалиды в стране, в обществе. А у нас инвалидов не было — они все были спрятаны. И у нас нет культуры принятия иного человека, нет человекоцентричного мышления. Есть прекрасный пример — городской парк в Тель-Авиве, который в себе объединяет все ценности человеческого принятия друг друга. Там в одном месте ты встретишь паллиативных пациентов с сиделками, в другом — детей с ДЦП со своими обычными друзьями, где-то тут же будут свадьбу отмечать, а мимо тебя пронесется марафонец в коляске и он будет выглядеть лучше, чем ты… Там есть понимание того, что задача человека — быть счастливым, а не быть идеальным. В Израиле ноль процентов отказа от детей. Ноль.

Александр с Семой. Фото: semensemin / Instagram
— А кроме того, там есть система поддержки детей с особенностями…
— Да, бесплатная и действующая сразу же с момента рождения. И главная работа ведется не с ребенком, а с семьей. Родители – главные специалисты для ребенка.
А у нас «беда» и «крест» – культ праведности страданий.
— Нет, погодите. Когда мужчина уходит из семьи, узнав, что у жены неизлечимая болезнь или что ребенок родился с тяжелыми нарушениями, — это не про праведность страдания, совсем…
— Я говорю о том, что на уровне архетипической ассоциации у нас заложено: «инвалид — убогий — боль — страдание — беда».
Восемнадцатилетний человек с синдромом Дауна в том же Израиле — это, к примеру, официант или прекрасный повар. В Испании – выпускник высшего учебного заведения. А у нас это подопечный какого-нибудь психоневрологического интерната, или нищий, просящий милостыню, или беспризорник, гуляющий праздно по двору и пугающий детей, потому что он рос в диких условиях.
И чем больше сейчас нам из телевизора говорят о духовности и «скрепности», противопоставляясь неким в кавычках либеральным ценностям, тем больше мы будем загоняться в эту «беду». Так как на деле ситуация только ухудшается, и только благодаря фондам, благодаря активной социальной журналистике в нашем обществе присутствует хоть какое-то понимание, что такое особенности развития.
Но в целом, если говорить про 146 миллионов наших граждан, я абсолютно убежден, что все неутешительно, и количество рождественских и пасхальных богослужений, показанных в прямом эфире, на это никак не повлияет.
— Прямые эфиры богослужений — это, мне кажется, вопрос все-таки немного другого плана. Но в целом про отношение я с вами соглашусь. Буквально недавно кто-то из депутатов, увидев ролик про прекрасную девочку без ручек, Василину Кнутсен, которая живет с приемными родителями, спросил, почему аборт вовремя не сделали, и сказал, что женщина должна знать, как эту проблему решать. Потом он извинился перед мамой, познакомился с Василиной. Но дело в том, что у приемной мамы тем, почему она не прервала беременность, люди интересуются регулярно…
— А сколько комментариев в Instagram, где нам пишут: «Это же мучение… Зачем такие дети живут и мучаются?» На это можно отвечать только жизнью.
Когда счастье становится очень подробным
– Как раз хотелось бы поговорить про медийность, которая с первых месяцев жизни сопутствует Семе. Как это вообще пришло к вам, как стало частью вашей жизни?
– Каждая ситуация рождает только один смысл — и он верный. И задача его разглядеть. В моем случае вся публичная история Семы – это ироничный ответ на миф о том, что такие дети социально не адаптируемы. Я каждый раз шучу: «Сем, посмотри, с каким количеством людей ты общаешься, будучи совершенно социально не адаптируемым».

Эвелина Бледанс и Сема. Фото: VK
А началось все очень просто: мы поняли – надо противопоставлять что-то невежеству и надо пользоваться теми умениями и ресурсами, которые у нас есть. У Эвелины есть публичность, у меня — рекламный опыт, и мы подумали, что, видимо, сейчас можно все объединить. Мы стали рассказывать о том, как можно воспитывать и растить «солнечного» ребенка — не с точки зрения специальной педагогики и медицины, а просто как родители, которые сами ежедневно делают на воспитании свои открытия. И это сработало.
Говорят, что теперь, когда рождается “солнечный” ребенок, молодой маме дают телефон со страничкой Семы в инстаграме со словами: «Будет как Сема». И это прекрасно, потому что Сема ни на секунду не вымышлен, он абсолютно документален — со всеми его улыбками, достижениями, характером, позитивом и без беды.
— А помните тот момент, когда вы решили, что про Сему надо рассказывать? Ведь не в первые дни это было, когда у вас был «снег другого цвета»?
— Это было после того, как закончился период выхаживания. Тогда мы поняли, что можем наконец сказать: у нас родился ребенок. До этого была непонятная ситуация, когда нам вовсю звонят, поздравляют с рождением сына, а мы просто очень хотим, чтобы он выжил.
А дальше не было какого-то решения, даже разговоров не было. Суть тебя сама находит, а тебе просто нужно выбрать форму — ту, которая больше всего нравится. Если бы мы были музыкантами, то, наверное, писали бы про то, что именно музыка способствует прекрасному развитию «солнечных» детей, если были бы учеными, это стало бы предметом серьезной научной работы. А мы оказались просто позитивными родителями.
— Нет ли в таких случаях опасности, скажем так, искусственного перекоса в позитив? Когда родители особенных детей взахлеб рассказывают, что это счастье, здорово, классно, круто, возникает немного странное ощущение — просто потому, что мы же так не рассказываем про обычных детей…
— Знаете, особенные дети — это действительно такое качество счастья. Дело в том, что каждый новый момент развития — то, что в жизни с обычным ребенком воспринимается как должное, — здесь переживается как победа, и это вызывает сильные эмоции. Я допускаю, что риторика этих родителей во многих случаях связана именно с таким позитивом. Хотя существует и другой вариант: выплеск боли может происходить в форме позитивной экспрессии.
Что здесь можно сказать? Каждый пытается справляться со своим состоянием по-своему, нельзя людей судить за это. Пусть лучше они выражают свою боль так, чем как-то по-другому — разрушительно, с ущербом для ребенка. С «солнечными» детьми счастье становится очень подробным. Ребенок приходит к тебе и вдруг неожиданно выдает готовую речевую форму. И у тебя весь день классное настроение.
— Само по себе определение «солнечные дети» — это ведь тоже в какой-то степени стереотип? Они же не всегда бывают солнечными и радостными, они по-разному себя ведут? И характеры разные, наверное…
— Когда мы называем этих детей «солнечными», мы имеем в виду, что они всегда открыты и дружелюбны. “Солнечным” детям очень нравится жить. И родителям, с которыми беседую, я всегда повторяю:
«Чтобы мы с вами достигли счастья, нам нужно пройти очень много дорог, много испытаний, и не факт, что мы к нему придем. А эти дети рождаются сразу счастливыми. Единственное, что мы должны им дать, — возможность жить».

Фото: Семён Сёмин / VK
Теперь по поводу характера. Конечно, он есть — еще бы! Мы уже через месяц дома этот характер почувствовали в полной мере и с ностальгией вспоминали первые дни жизни сына, когда все в роддоме кричали, а он даже не плакал. Ребенок с синдромом развивается как обыкновенный человек, просто медленнее. Он может сказать «нет», обидеться, схитрить, слукавить. Все нормально.
Пытался донести: я не интернатский, а просто сын воспитателя
— Ваша мама работала дефектологом. И это удивительно: получается, вы еще задолго до этой деятельности имели представление о том, что такое особенные дети?
— Да, совершенно верно. Не только мама была дефектологом, но и папа был музыкальным воспитателем в интернате. Они вместе работали, и, конечно, в детстве я тоже там проводил много времени. Там были совершенно разные дети — наверное, и с синдромом Дауна, но я этого не помню. Речь шла в основном об очень серьезных диагнозах, но поскольку папа всегда пытался их вовлечь в творчество, на этой почве я с ними дружил, играл с ними в музыкальной рок-группе.
Однако это не значит, что у меня не было страха. Более того, это был, наверное, мой самый главный страх относительно будущих детей, поскольку я имел представление об инвалидности именно в условиях, обстоятельствах интерната. Но между этими детьми и теми инвалидами, которые живут дома, воспитываются в семье, — очень большая разница.
Практически все советские учебники по коррекционной педагогике, по дефектологии написаны именно на основе изучения детей из интернатов. В России еще никто не написал нормального научного труда по развитию и потенциалу детей с синдромом Дауна, которые воспитываются в семьях, в любви. А интернатское развитие какого угодно ребенка будет развивать очень медленно. Если вообще будет. Там не нужно быть «солнечным», чтобы оказаться в итоге совершенно не адаптированным к жизни.
Помню, как мы с воспитанниками интерната каждое лето ездили в пионерские лагеря. Это были отряды-изгои, я вам скажу. Питаться мы ходили — целый отряд интернатских детей — отдельно, после всех отрядов. Даже горны, которые звучали в лагере, были не для нас. И это было предметом какой-то моей невероятной зависти, желания принадлежности к «нормальным». Я ходил там на дискотеки и отчаянно до всех пытался донести: я не «такой», я просто сын воспитателя… Не сказать, чтобы обычные дети там были какими-то жестокими, не толерантными — просто такова была система отношений.
— Как вы выбирали свою профессию? Это закладывалось еще со школы?
— Сразу было понятно, что профессия будет творческой. Благодарен своей учительнице по алгебре, которая разрешала абсолютно легально писать стихи на ее уроках и однажды сказала: «За это на экзамен принеси сборник, тогда все будет нормально». Так что это сразу, со школы, был откровенно творческий путь. Во время учебы работал на кабельном районном телевидении, делали свои программы. А потом режиссерский факультет.
Большую роль в моей жизни сыграла воскресная школа. Однажды к нам в школу — обычную, общеобразовательную — приехал отец Димитрий Смирнов, и я ухватился за его крест. Он так рассказывал про нашу встречу. Отец Димитрий порекомендовал моей бабушке отправить меня в воскресную школу. И я туда ходил — с шести лет и до девятого класса. С бабушкой.
Вообще воскресная школа стала для меня наукой: там нам преподавали иконопись, историю, церковный старославянский язык, Закон Божий. Естественно, это не могло как-то не остаться, не задеть. Но было очень тяжело в том плане, что ты приходишь в обычную школу и понимаешь, что там все эти правила не работают. Это вообще, наверное, самое тяжелое, что может быть в формировании подростка — две параллельные школы как две параллельные жизни. В воскресной школе про то, как не грешить. В обычной – а как, если не согрешить.
Думаю, что не будь в моей жизни этого, я бы, учитывая мои слабости и эмоциональность, стал бы каким-нибудь андеграундным персонажем с очень непонятным будущим.
— Вы верите сейчас в Бога?
— Я верю Богу.
— Была ли в вашей жизни какая-то точка, в которой состоялась ваша личная встреча с Богом? Такая, про которую говорят: Встреча…
— Я очень надеюсь на эту встречу. В том смысле, в котором вы говорите, у меня ее, наверное, не было. Я очень был близок к Богу в детстве, но применительно к этому возрасту сложно говорить про осознанную веру — скорее это часть догмы какой-то. Можно сказать так: моя вера до совершеннолетия была верой, основанной на страхе Божием. Для меня верить в Бога – означало Его бояться. Возможно, так было потому, что в моей жизни не очень долго был папа — он ушел из жизни достаточно рано. И мы остались: две сестры, мама, бабушка и я. То есть было недопонято отцовство, а Бог воспринимался в качестве Отца, строгого такого.
Лежу, все окутано пеленой, а мой курс поет церковные песнопения
— Были ли в вашей жизни какие-то особые моменты, которые вы спустя годы помните в деталях?
— Травма и парализация. Мне было девятнадцать лет, я учился на режиссерском факультете. Там есть такой предмет, как театральное фехтование. И вот перед экзаменами мы репетировали с однокурсниками наш бой. У моего соперника слетел с рапиры защитный наконечник, он этого не заметил, и по его неосторожности шпага вошла мне под глаз, в мозг. Позвонили в скорую, и там сказали, что до их приезда нужно, чтобы я ни в коем случае не уснул. Помню, как лежу, все окутано какой-то пеленой, а вокруг меня стоит весь наш курс и поет церковные песнопения. Поет хорошо, громко, не давая мне спать. Наша преподавательница по вокалу много внимания уделяла церковной программе, так что у ребят как-то не возникло сомнений, что именно петь. Не было какого-то призыва: «Давайте помолимся за Сашу», просто что знали, то и пели. Это продолжалось час, до приезда скорой.
— А потом?
— А потом это стало известной историей в московской нейрохирургии, под условным названием «Мушкетер». Было уголовное дело, много шума, у института были проблемы. А для меня началась другая жизнь, другая реальность. В первые пять дней никто не понимал, как все закончится, на третий день маму уже готовили… Позвонили отцу Димитрию, он приехал, причастил. И кровоизлияние прекратилось, дальше обошлось без трепанации. Только парализация всей левой стороны. Но то, что я остался жив, конечно же чудо.
Поскольку я был студентом режиссерского факультета, мне казалось, что все происходящее – это некий режиссерский опыт. И по пути в больницу у меня родилась мысль: это же прямо кино, в котором можно рассказать о жизни только через потолок. Я же был лежачий тогда и ничего, кроме потолка, не видел. А еще научился различать людей по шуршанию бахил. И как-то эти все придумки меня переключили на то, что это не проблема, а приключение. Мы договорились с мамой, что в палату людей со слезами не допускаем. И действительно, все приходили просто пообщаться, все было нормально, спокойно. Без беды. Постепенно я стал восстанавливаться.
— Долго восстанавливались?
– Думаю, я до сих пор до конца не восстановился — только процентов на восемьдесят пять. Когда тебе очень хочется поскорее начать снова учиться и работать, ты, конечно, очень стараешься. Но находиться в обществе пенсионеров, которые делают гимнастику в бассейне, было для девятнадцатилетнего мукой.
Типа я молодой парень, который все, что двигается, хочет двигать, а тут электрофорез в Бусиново. Честно говоря, я и сейчас в этом смысле раздолбай: врачи мне говорили, что нужно будет собой постоянно заниматься, что этот рубец в правом полушарии головного мозга будет так или иначе с годами напоминать о себе. Вот и хромаю до сих пор, когда устаю.
Сначала нужно создать спрос на любовь
— Один из самых страшных вопросов, который задают себе родители особого ребенка: что станет с ним, когда мы не сможем им в силу возраста, немощи так вот заниматься? Как вы видите эту ситуацию?
— Будет так, как Богу будет угодно, я об этом думать не хочу. Я точно так же не знаю, что будет с другими моими близкими. И я знаю такое количество историй, когда жизнь очень сильно меняет любую судьбу, что не ищу ответа на этот вопрос.
Однажды я говорил с отцом новорожденного ребенка с синдромом Дауна. Позиция там была очень жесткой: отказ. И главный аргумент: «Что я скажу на работе?» Я ему сказал: «Представьте, что сейчас у вас родилась прекрасная здоровая дочка. Но в пятом классе она попадет под машину и станет инвалидом. Что вы скажете на работе? Откажетесь от нее?» «Конечно, нет», — уверенно ответил он. «А в чем разница между вашим ребенком, который станет особым через какое-то время, и вашим же ребенком, который является особым с рождения?» К взрослению своего сына я отношусь так же: он мог бы приобрести инвалидность в двадцать лет, в тридцать или в сорок, когда я уже был бы пенсионером. Хотя надеюсь, конечно, что к тому времени, когда Сема станет взрослым, многое в России изменится. Хотя бы в головах людей.
Человек с синдромом Дауна к восемнадцатилетию, если его правильно развивать и с ним заниматься, находится на уровне развития двенадцатилетнего ребенка. Мы в двенадцать лет могли за собой убрать вещи? А разогреть себе обед, в магазин за продуктами сходить? А влюбляться? Так что вопрос «а что же будет?» мы больше задаем про себя, а не про детей.
Мы-то думали, что о нас будут заботиться, что нас в старости обеспечат, решат наши житейские проблемы. Мы же для этого вообще, получается, рожаем детей. А выходит как-то иначе.
И если нас терзает тревога, она про нас самих, а с собой мы как взрослые люди можем и обязаны разобраться сами.
Не случайно в том же Израиле нет понятия «коррекционная педагогика», у них есть понятие «продвижение». Корректировать — значит подстраивать. Под кого подстраивать, под что? Под себя, еще под кого-то, чтобы этому кому-то было удобно. А продвигать — значит налаживать отношения этого ребенка с жизнью, чтобы он реализовался в ней. Условно, если не можешь выговаривать «р» — учи французский. То есть речь идет об использовании особенностей, о реализации потенциала в адекватной ему среде.
— Что такое в вашем понимании смерть? Вы верите в жизнь после смерти?
— Да, конечно, верю, я же из воскресной школы. Сложно это осознать, но то, что душа бессмертна, у меня не вызывает сомнений. Иначе почему бы Христос тогда разрешил Себя распять? Только для этого. Кто-то может отнестись к этому скептически, счесть это наивным, но вера вообще наивна — так же, как и любовь.
— Как вы познакомились с фондом помощи хосписам «Вера»?
— С Нютой Федермессер меня познакомили общие друзья, но с целью помочь с позиционированием и коммуникацией фонда. Лет шесть назад я делал ролик для фонда «Линия жизни», и он стал достаточно известным в благотворительной среде. Но с деятельностью фонда «Вера» я был знаком ранее, потому что мне было очень интересно и важно все, чем занимается фонд и Нюта.
Нюта такой человек, который вызывает не просто невероятное уважение, а, я бы сказал, обескураживающее уважение. Оно в тебе возникает само, и ты ничего не можешь ему противопоставить. И за возможность познакомиться с этим человеком я, конечно же, ухватился моментально.

На мероприятии фонда “Вера”
— А было ли что-то такое, что вас действительно поразило в хосписе?
— Там не пахнет. Вообще я всегда, с детства боялся больниц именно потому, что там пахнет старостью и молоком. Да и само слово «хоспис» как-то даже фонетически тебя заставляет вздрагивать. А здесь смотришь на людей — и какие-то они не несчастные, не умирающие.
Допустим, женщина может лежать, она может быть худая-прехудая, но она смотрит телик, ей делают маникюр. И ты смотришь и думаешь: «Ничего себе! Я вообще где? Дайте мне смерть, я же пришел бояться!»
Но в этом хосписе, как бы ты ни старался, ты не сможешь испугаться. Вот это фантастика. Пойдемте-ка теперь в прощальную. Может, там-то все-таки смерть? Приходишь, а там птички поют, будто в лесу. Яркие краски, цветы, игрушки… И тут испугаться не получится.
И это не про беду опять: повторюсь, вот это ощущение страшной беды — это наш пресловутый культурный код. Как говорит Нюта, слово «отмучился» есть только в русском языке. То же самое и с «бедой» синдрома Дауна — и тут оказывается, что все это очень похоже. Одно — про возможность жить в начале жизни, другое — про возможность жить в конце.
— «Если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь» — это очень сильный девиз, который в течение многих лет сопутствовал фонду «Вера». Вы придумали другой — «Жизнь на всю оставшуюся жизнь». Это была сложная задача?
— Про вылечить и помочь — это скорее не слоган, а целый манифест. И он потрясающий, именно так и нужно думать, эту линию нужно продолжать. В этой фразе сформулирован весь принцип хосписной помощи. Но нужно идти дальше. Нужно донести мысль о том, что в конце жизни действительно может быть очень много жизни.

Фото: фонд “Вера”
— Можете рассказать, кем вы еще восхищаетесь и почему?
— Один из таких людей — Рубен Варданян (соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора», один из основателей Московской школы управления «Сколково». — Ред.). Мне повезло работать с ним. Это высокие слова — о людях, которые меняют мир, но Рубен реально его меняет. Он инвестирует в людей, давая им возможности этот мир менять. Работая с ним, ты словно увеличиваешь масштаб собственной жизни.
Моя мама. Когда родился Сема, ей как советскому педагогу, как дефектологу было очень трудно принять какие-то вещи. И я знаю, какую работу она провела над собой, чтобы уйти от «ученого» отношения к синдрому. И более того, почти сразу она пошла на курсы в фонд “Даунсайд Ап”, чтобы получить конкретную компетенцию по синдрому Дауна, освоить те подходы, которые есть на сегодняшний момент.
Недавно мы ездили с Семой в израильский центр Shalva. Это, пожалуй, самый лучший центр по развитию особенных детей в мире. Я показывал Сему, они дали очень высокие оценки его развитию, и это, конечно же, заслуга мамы. Это при том, что она уже и в профессии свое отработала, и вырастила троих детей — могла бы не вникать в это так глубоко. Но она занимается с внуком, и я у нее краду какие-то упражнения, уроки.
Вообще все, что про маму, сентиментально, наверное, звучит, но в этой ситуации я не мог об этом не сказать. Кстати, с Shalva мы будем делать совместные проекты. Есть мечта применять весь их опыт и методики здесь, в России. Отправлять на обучение специалистов. Первой будет, конечно же, мама.
— Каково ваше видение инклюзии в современном российском обществе?
– Инклюзия в моем понимании — это не ситуация, когда ребенок с синдромом Дауна учится в обыкновенном классе. Тут нужно говорить не об инклюзивном образовании, а об инклюзивной жизни. Педагогика для особых детей должна быть особой — с учетом всех особенностей восприятия, понимания, темпа. Такому ребенку обязательно нужно понимать, что у него получается. Он должен одерживать победы.
В том же Shalva дети учатся все по-разному, но внеучебные, культурные события у них общие. И мне нужно то, чтобы Сема не сидел в обычном классе, а чтобы на мероприятиях, играх, во внешкольной жизни он мог бывать с обычными детьми, чтобы в каком-нибудь доме отдыха они в столовую ходили вместе, а не «инвалиды после всех», как у нас было в лагере.
Но это произойдет не по приказу какого-нибудь министерства, а когда сами люди изменятся. И они потихоньку меняются.
Я верю в изменения на лестничной клетке, а не в государстве. Сначала человек должен создать спрос на любовь, и тогда государство на этот спрос уже не сможет не отреагировать.